Вместе с профессиональными спасателями выяснили, что такое экстремальные ситуации и почему люди в них попадают, как вести себя в горах, если с вами что-то случилось, и почему соревнования по спасработам имеют мало общего с реальностью.
Наши собеседники:
Если слушать вам приятнее, чем читать, включайте наш подкаст.
— По каким причинам чаще всего случаются непредвиденные ситуации в походах и на восхождениях?
Сергей Веденин: Я буду банален и зануден. Слово «экстремальный» крайне замыленное. Ролики — экстремальный спорт? А парашютный спорт? На самом деле экстремальность — это цена ошибки. У разных видов спорта разная цена ошибки, поэтому разная экстремальность. Цена ошибки в парашютном спорте какая? «Бац». В альпинизме тоже всегда есть куда «бац», поэтому это вполне экстремальные развлечения. При этом любая ситуация может стать экстремальной, потому что риск для жизни может возникнуть на ровном месте, и особенно в условиях природной среды. А попадают люди в экстремальную ситуацию по одной причине: переоценка собственных знаний и навыков, недооценка опасности.
— Но это две причины? Или их можно объединить в одну: недостаток информации?
Сергей Веденин: Нет, не информации. Это личная переоценка. Мы все о себе думаем хорошо. Когда человек бегает, прыгает, катается, лезет в гору, и вдруг упал — что он говорит? Ну, кроме идиоматических выражений. Он говорит: камень скользки½й, снег говно, лыжи не едут и так далее. Ни один человек не сказал: «Я ошибся, выбрал неправильную траекторию, неправильную скорость, неправильно поставил ногу». Нет, камень скользкий, тварь. А то, что ты ошибся и навернулся, — это ты неправильно выбрал, подумал, сделал. Всё сначала происходит в голове, а потом только на рельефе.
Андрей Борзунов: С точки зрения спасателя, экстремальная ситуация будет отличаться от неэкстремальной процентным соотношением безопасности, которую ты можешь организовать. Себе, группе или ещё кому-то. Грубо говоря, экстремальной ситуацией может быть приготовление блинов на кухне для домохозяйки. Просто она не умеет этого делать и не обезопасила себя. Есть хорошая фраза: «Попав в экстремальную ситуацию, ты не возвышаешься до своих ожиданий, а падаешь до своей подготовки». Поэтому камень действительно скользкий, и он таким останется всегда.
— А что насчёт форс-мажора?
Сергей Веденин: А не бывает форс-мажора.
— А изменение погоды?
Сергей Веденин: Форс-мажор — это прилетел метеорит. Вот это реально форс-мажор. Случаев попадания метеорита в человека описано около десятка, если мне не изменяет память. Остальное — это «плохо подумали». Значимое большинство несчастных случаев в горах начинаются со слов «неожиданно наступила ночь». Не бывает неожиданно. Бывает, быстро пришла гроза. Её видно за полчаса-час, ты видишь чёрную тучу и понимаешь, что надо что-то делать. А вот «неожиданно наступила ночь» — значит, ты просто бестолковщина, не смотрел на часы, не умеешь планировать и был занят чем-то не тем.
Андрей Борзунов: Даже если взять цунами. Вот отдыхаешь на пляже, тебе говорят: идёт цунами, сейчас волна придёт. Нет, мы сидим и снимаем, как идёт волна. А потом: «Она прибежала!» С погодой то же самое. Один из первых моих походов лет двадцать назад: перевал, мы пока ещё «зелень», опытная группа пошла наверх брать какую-то «трёшку», и вот идёт туча. Инструктор с нами находится, и первые его слова: «Может, обойдёт?» Это перевал, это дырка для всего, не обойдёт!!! Тогда мы хапнули и улетевшие рюкзаки из палатки, и скатившихся кубарем с вершины ребят… Её видно! И если ты выбираешь вариант «остаёмся и делаем», тогда «внезапно наступила ночь, пришла гроза, и всё такое».
— Если взять место возникновения ситуации — лес, горы, вода, — какие экстремальные ситуации на каждом из этих ландшафтов возникают чаще всего?
Сергей Веденин: Если лес — это потеряшки, связанные с травмами. Человек потерялся, ногу подвернул и не смог добраться домой. В горах редко потеряшки, часто травмы. Чаще всего травма опорно-двигательного и падение с высоты. Хотя статистика, например, спасслужбы Австрии меня шокировала. Австрия — страна горная. У них больше 50% вызовов на спасоперации в горах — это вызовы на «синдром отца Фёдора». Залез и не могу слезть. Это вечная история. Вверх, конечно, проще, чем вниз. А потом «неожиданно наступила ночь, травка стала скользкая, камушки скользкие».
В горных речках есть чудовищная кавказская статистика. Там значимое количество людей — это местные жители, которые, идя вдоль берега, поскользнулись и упали в воду. Во-первых, плавать в горной реке не очень хорошо, но проблема в том, что горцы, как правило, не умеют плавать — им негде. И каждый год ребята бегают, ищут людей в реке. На больших озёрах и реках — резкое изменение погоды, перевороты. Для туристов — пороги.
— Представим, что человек спланировал своё путешествие, поход, и всё-таки экстремальная ситуация наступила. Связи по каким-то причинам нет, когда ждать спасателей — неизвестно. Как оценить то, что произошло, можно ли дать человеку какую-то систему, по которой он сможет оценить произошедшее?
Сергей Веденин: Мы обсуждаем одиночку или группу? Это две большие разницы.
— И то и другое.
Андрей Борзунов: Давай с одиночки начнём. Первое, что ты должен сделать, если что-то произошло, — перестать двигаться. Человек, получивший повреждения, так или иначе, будет находиться в шоковом состоянии. У кого-то это длится несколько секунд, у кого-то несколько часов. В шоковом состоянии самая плохая вещь — ты можешь недооценить опасность, которая продолжает на тебя воздействовать или может тебе угрожать. Ты можешь продолжить себя травмировать, потому что в этот момент не чувствуешь боли. И есть огромное количество примеров, когда ты свалился, ножку подвернул и — «ну ладно, сейчас вот туда доковыляем». Туда доковылял и больше не встал. Поэтому для начала прекращаем двигаться, чтобы голова встала на место. Чтобы ты хотя бы понял, где оказался.
Второе, что ты должен оценить, — твоя безопасность. Насколько ты твёрдо остановился, насколько рельеф или место предполагает какие-либо действия. Например, у меня на курсах есть такой пункт: «обеспечение безопасности места». Посмотрите: вы на этой сыпухе или на этом льду работать дальше сможете? Закрути шлямбур, сними рюкзак — обезопась себя. Пока ты всё это будешь делать, пройдёт некоторое время, которое позволит организму понять, что произошло.
Третье — оценка собственного состояния. Если ты в сознании, проверь, что руки и ноги целы, если одежда порвана, посмотри, что под ней.
Четвёртый шаг — первичное оказание помощи. У тебя есть личная аптечка. Есть рана, есть травма. От чего ты быстрее помрёшь: от кровотечения из раны или от закрытого перелома голени?
Самое главное, при любом происшествии нужно дать себе время подумать. С ходу, с налёту никакие спасработы не ведутся, даже личные. Потому что организм в шоке — можешь недосмотреть. Если ты в сознании, первую помощь себе оказал и не висишь в трещине — посиди на месте хотя бы полчаса. Примус разожги, снега растопи, чаю попей, укутайся, потому что сейчас пойдёт отходняк от шока. Подумай, что ты с этим будешь делать. Заодно посмотри, есть ли связь. Если есть, но плохая или 1% зарядки на телефоне, важно крикнуть «Беда!» и где ты находишься. А не «Я сломал ногу, когда спускался….». Это важный момент: сначала скажи, где ты. Там посмотрят в эту точку — вдруг там есть группа.
— А если что-то произошло в группе?
Сергей Веденин: Алгоритм тот же самый. Оценка безопасности, экстренная эвакуация в безопасное место — если место небезопасное. Далее осмотр, первичная помощь, выдохнуть, подумать, принять решение. Тот же самый алгоритм.
— В группе это будет делать руководитель?
Сергей Веденин: Не пострадавший. Руководитель должен обладать стрессоустойчивостью и готовиться к тому, что придётся работать в условиях приличного внешнего давления. Тоже бывает, что человек загоняет себя в стресс, и нужно остановиться и подумать. Но если у тебя есть человек с травмами, оказать первую помощь надо сейчас. Именно поэтому на курсах первой помощи вдалбливают алгоритмы. Мир очень сложный и не поддаётся алгоритмизации, но в стрессовой ситуации, когда у человека есть алгоритм, он может по нему действовать. Даже когда стресс зашкаливает, он помнит алгоритм, и есть шанс, что он по нему сделает, — ради этого курсы и придуманы.
— Наличие какой-то инструкции успокаивает?
Сергей Веденин: Один из методов борьбы с человеком, который в контакте неадекватен, — это выдача указаний. Коротких, простых: подойди сюда, достань лопату, копай здесь. Есть высокий шанс, что, выполняя простые действия, человек вернётся в позицию «контактен, адекватен». Ради этого придуманы алгоритмы, чтобы в стрессовой ситуации не надо было ни о чём думать. В таких ситуациях мы уходим на навыки, поэтому и стараемся нарабатывать на курсах алгоритмы и навыки.
— Что чаще всего люди в таких случаях совершают, что может усугубить ситуацию и помешать спасателям?
Андрей Борзунов: Если чеэска произошла в группе, первое, что необходимо сделать, — как бы ни было цинично — подумать о группе, а не о пострадавшем. Самая большая ошибка: что-то случилось, и инструктор ломанулся туда. А про безопасность забыли, про группу забыли. Если выключило инструктора — прилетел второй камень или ещё что-то, это совсем беда. Отсюда вытекают и психологические проблемы в группе: уходящие люди, истероидные реакции.
Сергей Веденин: На всех курсах мы произносим одну и ту же фразу: «Первое правило спасательных работ: спасательные работы не должны приводить к увеличению количества пострадавших». Потому что, если травму получает спасатель, у вас удваивается количество пострадавших. Нужно вдвое больше сил, и это всё тащит за собой снежный ком проблем.
Андрей Борзунов: Если ты получаешь второго пострадавшего, для спасателей это две группы. Ушло десять человек на одного, а теперь надо ещё десять.
Сергей Веденин: Те, кто пробовал таскать носилки с пострадавшим в горах, знают: чтобы пройти с разумной скоростью дистанцию больше километра, нужно 18 человек. Три смены по шесть человек будут нести со скоростью 500 метров в час. Через час-полтора они будут, мягко говоря, уставшими, через 5-6 часов хорошо бы их сменить. Но некем.
— Я всегда в таких ситуациях думаю: если всё так опасно, зачем люди туда идут?
Сергей Веденин: Один из плюсов в горах — отсутствует проблема получить помощь проходящей группы от альплагеря и проходящих мимо альпинистов или туристов. Мы знаем пару-тройку ситуаций, когда эта проблема возникла, но те истории шокировали сообщество. Слава богу, такой проблемы нет. Есть проблемы с квалификацией тех людей, это другое — но порыв помочь присутствует, и люди готовы.
Андрей Борзунов: С точки зрения спасов, могу сказать, что проблема оказать помощь, проходя мимо, возникает, только когда тебе самому угрожает серьёзная опасность — замёрзнуть, оголодать, потерять кровь и так далее. То есть серьёзные восхождения, где ты сам практически погиб, тебя замело, и ты на последних силах спускаешься, а тут лежит человек. Да, возможно, ему не помогут, потому что ты уже на инстинктах идёшь.
Сергей Веденин: Мы как-то разбирали историю про Эверест, но там такие правила игры: ты на большой высоте и работа с кислородом.
Андрей Борзунов: А так на тропе, чтобы прошли мимо, — в моей практике я не слышал.
 Статья по теме
Статья по теме
— Есть такое утверждение: если что-то случилось, лучше оставаться на месте и дождаться людей, которые вас спасут, чем заниматься любительским самоспасением. Для каких ситуаций это действительно работает, когда лучше остаться на месте?
Сергей Веденин: Это на 100% подходит для потеряшек в лесу. Потерялся в лесу — знаешь, что тебя будут искать, — остановился на месте: экономишь силы, не мёрзнешь, не рубишься по болотам, не мокнешь, — и тебя спасут. В горах появляется вариативность. Будут ли тебя искать, в этой долине или в соседней? Потому что мы все пишем планы выходов, которые, как и все планы, часто не имеют ничего общего с реальностью. Планы меняют на ходу: «А давай залезем вон туда». Ну и просто тайминг сбился, написали лишний денёк, чтобы точно закончить к контрольному сроку, и по плану мы в той долине, а по факту в этой. А это разные спасслужбы, разные спасотряды, и — упс. Если есть связь, всё сильно проще. Но в горах история «оказал первую помощь, вызвал спасателей — и жди», к сожалению, не всегда работает.
Андрей Борзунов: Если связи нет или она, например, один раз в день и уже прошла — даже если ты зарегистрировался и идёшь в тайминг, искать тебя будут только после окончания контрольного срока. А это может быть не один день. Поэтому в горах это всё-таки вариативность.
Но с точки зрения спасателя и инструктора первой помощи: как только ты остановился, оказал первую помощь, следующим действием должна быть днёвка. Во-первых, последствия травмы или каких-то повреждений проявляются в ближайшие 12 часов. Во-вторых, чаще всего чеэски происходят после обеда, потому что народ подустал. Ну оказал ты помощь, чаю попил, а дальше вот она, ночь. Поэтому сразу полуднёвка, никуда не идём. А дальше нужно понять, насколько серьёзны травмы.
Мы понимаем, что человека с вывихнутой лодыжкой, так или иначе, допрём: три или четыре дня, но мы допрём спокойно, потом его полечат. Но если у человека внутреннее кровотечение? Например, он себе ледоруб в живот воткнул — очень много людей падают на ледорубы, потому что носят их на поясе, так удобнее. И тогда никуда мы не идём, потому что не известно ни одного случая в медицине, чтобы транспортировка улучшила состояние пострадавшего. Это всегда ухудшение, в любом случае: силы, кровопотери, плюс группа устаёт — там уронили, тут уронили. Поэтому, когда ты встал на днёвку, в ближайшие 12 часов произойдёт оценка: мы идём или сидим, отправляем кого-то за помощью или сидим все. Это случится не в момент происшествия.
Плюс транспортировка. Есть три вида, которые мы разбираем на курсах первой помощи: экстренная, краткосрочная и длительная. Экстренная — это ближайшие 10-15 метров, когда нужно человека перетащить в любое безопасное место: под полочку, из-под камнепада. Краткосрочная — до 500 метров: например, выползти на площадку вертолёта. Это всё требует ресурса — мы должны быть сытые и выспавшиеся, нужно уметь собрать носилки. Сергей не даст соврать: носилки в процессе транспортировки не улучшаются.
Сергей Веденин: Мы всегда рассказываем, что есть спасработы подручными средствами, профессиональные и соревнования по спасработам. Важно не путать их, и особенно третье. На соревнованиях люди быстро связали носилки, быстро упаковали человека и быстро с ним побежали. К сожалению, это выработало идею «быстро связать носилки и быстро побежать». Мы пробовали на занятиях: носилки, сделанные за 15 минут, разваливаются первый раз через 15 минут. Разваливаются, понятно, не на плоском рельефе, а на кривом, косом, и хорошо, если не сильно опасном. Развалились, разобрали, перевязали. Следующие носилки вяжутся полчаса, разваливаются в течение часа. И на третий раз, когда делаются долго, нудно, в течение часа, они могут работать долго.
Когда носилки разваливаются второй раз, обычно это уже ночь. Ночь, дождь — весь вот этот праздник. В этот момент ты должен понимать тайминг. «Мы шли от дороги до этого места 8 часов — сейчас быстро добежим». Нет, два дня будете идти. Вот эта история «а мы ускоримся» — нет, мы замедлимся. Группа с носилками может только замедлиться. Это будет долго, нудно, мучительно, никому не понравится, всем запомнится.
Когда такие вещи оцениваешь, нужно принять решение: сегодня никуда не тащить. До темноты осталось два часа, мы сейчас свяжем носилки, они развалятся, мы их пересоберём и через два часа окажемся вон на том склоне, где не будет места поставить палатку, не будет воды, мы будем делать всё в темноте на ощупь на опасном рельефе. А здесь сейчас хорошее безопасное место. Ставим палатку, кладём пострадавшего, контролируем его состояние, кормим, поим, наблюдаем. В этот момент группа отдыхает, строит нормальные носилки, составляет план.
Андрей Борзунов: Хотел добавить по поводу соревнований. Беда соревнований в том, что ты к ним готовишься. Ты знаешь трассу, для носилок заготавливаешь нужной длины шнурочки, у тебя скотч лежит в этом кармане — ты подготовился. Когда ты выходишь в жизнь, если что-то хоть чуть-чуть идёт не по плану, у тебя ломается вся схема, потому что она не отыграна.
Сергей Веденин: И ты знаешь, что на соревнованиях носилки должны продержаться 500 метров, и делаешь их такими, что они продержатся ровно 500 метров.
— Что-то мне подсказывает, что и на носилках не раненый человек с ледорубом лежит?
Сергей Веденин: Да, лежит либо по жребию, либо самый лёгкий. И он не очень страдает.
— А если эти соревнования не имеют ничего общего с тем, что происходит в жизни, зачем они нужны?
Сергей Веденин: Большая проблема — организовать так, чтобы эти соревнования были похожи на жизнь. Тут много причин: финансирование, место, люди, инструктора, судьи, безопасность. Провести тренинг, похожий на жизнь, — это гигантский объём работы. Когда мы начинаем делать что-то, похожее на реальность, мы откатываемся на самый первый диалог про экстремальные ситуации: мы должны сделать так, чтобы соревнования не превратились в спасработы.
Андрей Борзунов: Помня и даже зная, как вязать носилки, мы забываем об одном. Вот, Сергей, как ты думаешь, если человека упаковать в носилки, чего ему захочется в ближайшее время?
Сергей Веденин: Я не думаю, я знаю. Через 15 минут он захочет писать, ты остановишься, развяжешь, поставишь его на бочок, он пописает, запакуешь обратно. Через полчаса он захочет какать, чуть позже его начнёт тошнить, потом он замёрзнет, потом ему станет жарко, далее повторить.
Андрей Борзунов: Действительно, забываем, а многие и не представляют, что человек, находящийся в сознании, — живой. У него все физиологические процессы сохраняются. Он хочет есть, хочет пить и так далее по списку. А это большие проблемы при транспортировке. Вот ты говоришь, «поставить на бочок». Но носилки, предназначенные для того, чтобы протянуть 500 метров, не предназначены, чтобы поставить человека на бок! И ладно, если мальчик, а как с девочкой? И если девочка одна в группе? Я понимаю, что в одиночку в группе с мальчиками ходят определённые девочки, подготовленные хотя бы, что всё это может происходить в одной палатке, если буря и метель. Но это для мальчиков может быть проблемой.
Ещё насчёт днёвки. Вся беда в том, что ты получаешь днёвку со страдальцем. Во-первых, должен постоянно производиться контроль состояния пострадавшего. Даже если он не сильно покоцан — ножка, ручка, порез какой-то, лёгкий сотряс, — он получает экстремальную обстановку и часто недееспособность. Как следствие, требует заботы. И заботы не такой, что каждые пять минут к нему подбегает кто-то: «Что, болит, да?» — это действует на нервы. Когда-то подать кружку, когда-то накинуть пуховочку, пересадить поближе к костру, горелке — дать ему понять, что он не выпал из обоймы, что он с нами.
Подытожу. Если мы решили оставаться, первое — это забота о пострадавшем, и она должна быть адекватной. Второе — задействование всей группы в каких-то делах, потому что стресс может быть отсроченным, недопережитым. Вроде бы и отпустило, но где-то что-то «лежит». А потом человек останется один у костра, возьмёт и свалит — пойдёт погуляет. Так что группу нужно контролировать и заниматься ею. И самое важное, нужно контролировать физиологические процессы у пострадавшего. И к этому нужно быть готовым. Что мальчик может понести по-большому девочку, что нужно два мальчика, чтобы понести эту девочку. И нужно как-то это перенести самому морально. Даже если ждёте спасателей — они к вам будут идти не так уж и быстро.
— В ходе этой беседы мы упоминали курсы. Какие курсы оказания первой помощи существуют, где найти правильные и как отличить правильные от неправильных?
Андрей Борзунов: Предложений очень много. В пандемию последняя тема — дистанционка за 1,5 часа с удостоверением. Есть такое. Законодательно сейчас нормальный курс — это 16 часов вашего времени, два дня по восемь. Например, выходные. Чтобы получить удостоверение, вы должны знать следующее: готовность к ЧС, алгоритм ваших действий, раны, травмы, сердечно-лёгочная реанимация, отравления, температурные воздействия (перегревы, переохлаждения, ожоги, обморожения); такие специфические состояния, как диабет, инсульты, инфаркты; некий набор экстренных случаев, когда нужно действовать достаточно быстро и хотя бы не навредить. Вообще, первая помощь — это не навредить.
Вот это достаточно большой список, который за 16 часов должны не просто начитать, а ещё и в это поиграть. Люди у меня на курсах тренируются таскать, перетаскивать. Если мы говорим про горы, фрирайд — нужно суметь поработать со снарягой. Ко мне на курс приходят из разных направлений спорта, и, когда они приходят в своей снаряге, для них это открытие: оказывается, я в этом что-то сделать не могу. Вот пришли три милейшие девушки — парапланеристки, они пришли в подвесной системе. Потому что вот они сели, отстегнули крыло, подбежали — и что ты с этим рюкзаком будешь делать? И дальше начинаются проблемы.
Есть укороченные курсы — по 8 часов, по 4 часа, но это не про нас. В Москве есть организации, которые могут не просто провести курс первой помощи для домохозяек или школьных учителей, а ещё тематически «влить» эту первую помощь в горы, в лес, в параплан и куда угодно, потому что эти люди сталкивались со многим. Таких организаций три или четыре. И чаще всего эти курсы ведут спасатели, бывшие спасатели, гиды — те, кто отработал и знает, умеет, понимает. Потому что так, сходить на курс инструктора и потом рассказывать, как мы спасаем на воде, если ты ни разу не ходил пороги, — много чего может возникнуть.
Сергей Веденин: Я поддержу Андрея: разумный курс включает в себя много практики — это нужно всем и всегда. И да, надо признать, что эти курсы в массе своей, за редким исключением, заточены под город и ДТП.
Андрей Борзунов: Упор идёт на то, что ты можешь вызвать помощь.
Сергей Веденин: В Москве скорая приезжает за 15 минут. И в городе 15 минут продержался с пострадавшим, сдал скорой — и ты молодец. Правда, молодец. Чувствуешь себя человеком, который не зря прожил жизнь и помог человеку. В горах время прихода к тебе помощи — любое. И тут своя специфика. Эту специфику учитывают некоторые люди, которые её знают и способны изложить, Андрей в том числе. Я иногда делаю такие курсы с помощью Андрея или других преподавателей. Мы читаем короткий курс «Раны и травмы», 8 часов — для тех, кто прошёл базовый курс.
А ещё мы делаем курс «Сценарии». Два дня, 20 часов, попытка отработать на естественном рельефе те самые спасательные работы. С оказанием первой помощи в висе на стене — очень небанальная история, с транспортировкой, осмотрами, шинированием, иногда краской в виде крови. Делаю его раз в год, больше — очень тяжело, выжимает массу сил. Когда у тебя 12 человек работает на вертикальном рельефе, сделать так, чтобы они на моём курсе не покалечились, — это требует столько внимания, столько сил, что они заканчивают, разъезжаются по домам, а я сплю. Долго-долго-долго.
 Статья по теме
Статья по теме
— Хотел вам немного личных вопросов задать. Мне вот интересно, что чувствует спасатель, когда он вернулся после успешной спасательной операции. Это просто работа, про которую ты через минуту забыл, или какие-то переживания остаются?
Андрей Борзунов: По правилам любых спасработ сразу после их окончания делают обсуждение, чтобы у бойцов были закрыты все вопросы, все претензии были сняты. Или у кого-то переживания — это может застрять. Руководитель спасработ, скорее всего, это видел, потому что он не работает, а следит за происходящим. Поэтому все мелочи нужно отработать. После спасов, особенно успешных, есть некая эйфория. И даже спустя двадцать и тридцать лет всё равно будет эйфория. Работая в городе и каждый день вскрывая по 20-30 дверей — это как в магазин за хлебом, но когда это спасы вне города, и даже в городе, но удачные, с применением твоих профессиональных навыков, с успешным разрешением и непотерей страдальца, — это положительные эмоции. Потому что то, что ты умеешь, наконец-то пригодилось. И слава богу, это нечасто, поэтому не приедается.
Зачастую, если спасы окончились не очень хорошо: не то что ты приехал, а он «уже», а если «в процессе» — такое бывает, да, мы не всех спасаем, закон «80 на 20» работает, то есть 80 спасаем, 20 — нет. Да, будет какой-то осадок. Опять же, если это случилось в процессе спасов, старший отработает это дело после прибытия на базу. Поэтому даже плохое будет либо снято, либо отработано. Подытожу: любые настоящие спасы — это всегда интересно и здорово. Особенно для нас. И не потому, что это «э-ге-гей, мы герои» — у меня это кончилось лет пятнадцать назад, а потому, что ты всё то, чему научился, можешь грамотно применить.
Сергей Веденин: В отличие от Андрея, я давно уже не работаю спасателем. Сейчас вспоминал свои истории, когда работал. Наши обычные спасработы на Кавказе — это двое-трое суток. А потом спустился с пострадавшим до дороги, загрузил в машину скорой помощи, помахал ручкой, дополз до уазика, доехал до дома, с трудом поднялся по лестнице на третий этаж, прыгнул в кроватку — и лежать.
— Лежать и спать — это разные вещи.
Сергей Веденин: Бывали случаи, когда мы позволяли себе в пять утра пить водку. Приползаешь, понимаешь, что всё здорово, но сил и нервов потрачено столько… Что не спали двое суток, а пять утра, и надо бы поспать. Но август, спасработы идут бесконечной чередой, и понятно, что к вечеру дёрнут, и надо сейчас лечь поспать. Ну мы пробежались, нашли, выпили 50 грамм и уснули — иначе никак было бы. Не призываю людей пить водку в пять утра, но удовлетворения типа «спас человека» у меня, честно говоря, не было. «Я лично спас человека» — не было, «мы спасли командой» — такое есть. Удовлетворение, которое от этого возникло, ощущение, что ты прожил жизнь не зря, сделал ценную вещь, — оно навсегда.
Про опасности в горах
Как я не убился за 17 лет в альпинизме




























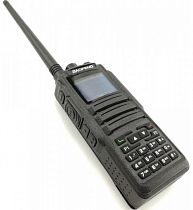









 Мне нравится
Мне нравится





